http://s-seifullin.narod.ru/kuniaev.htm
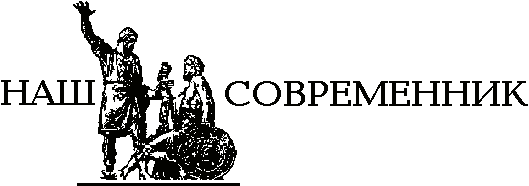 N8, 2000
N8, 2000
Сергей Куняев
РУССКИЙ БЕРКУТ
(часть VIII)
Ликвидация текста "Песни о гибели казачьего войска" почти во
всех экземплярах "Нового мира" стала для Павла одновременно и жестоким ударом, и
провоцирующим жестом, и предупреждением на будущее о том, "как надо себя
вести".
Он знал, что защитить свою репутацию и ответить всем недругам,
мгновенно распространившим про его арест и изъятие поэмы тысячу и одну сплетню,
он может только одним — работой.
Елена Вялова вспоминала, как, придя однажды домой, увидела
Павла, склонившегося за письменным столом. Казалось, муж не слышит ее шагов. Она
тихо прикрыла дверь, а он вдруг поднялся, подошел к ней, положил руки на
худенькие женские плечи.
— Знаешь, Елка, не думай, эта неудача не выбила меня из колеи.
Я лишь злее стал. Я напишу не одну и не две поэмы. О них еще заговорят, их
признают… Годы пройдут, пусть пройдут, но имя мое будет не последним. А что я
сейчас? Что я представляю собой, как поэт? Ни-че-го! Мне всю жизнь нужно учиться
и столько же работать. Много работать!
Похоже, он намеренно распалял себя, прекрасно зная, каким
блистательным было его начало, прекрасно отдавая себе отчет в том, что кое-что
им уже сделано. Но это было только начало. Хотелось большего. Хотелось
уничтожить всяческие остатки политического недоверия, сомнения в своем таланте
со стороны окружающих, хотелось раз и навсегда перестать ловить на себе их
недоверчивые опасливые взгляды. Хотелось доказать всем и самому себе в первую
очередь, что Павел Васильев — один из первых поэтов Советской страны, что ему
"нет преград ни в море, ни на суше", что ему подвластны любые темы и ничто не
остановит его, не сможет помешать выполнить предназначенную ему миссию.
К июню 1932 года относится стихотворение, обозначившее рубеж в
его нелегких размышлениях о дальнейшем пути.
Мню я быть мастером, затосковав о трудной работе,
Чтоб останавливать
мрамора гиблый разбег и крушенье,
Лить жеребцов из бронзы гудящей, с ноздрями
как розы,
И быков, у которых вздыхают острые ребра.
Веки тяжелых каменных женщин не дают мне покоя,
Губы у женщин тех
молчаливы, задумчивы и ничего не расскажут,
Дай мне больше недуга этого, жизнь, — я не хочу утоленья,
Жажды мне дай и
уменья в искусной этой работе.
Вот я вижу, лежит молодая, в длинных одеждах, опершись о локоть, —
Ваятель теплого, ясного сна вокруг нее пол-аршина
оставил,
Мальчик над ней наклоняется, чуть улыбаясь, крылатый…
Дай мне, жизнь,
усыплять их так крепко — каменных женщин.
…Он мечтал о новом эпосе, о своей "Илиаде", о том, чтобы
остановить неудержимый поток жизни и запечатлеть его в совершенных формах… Тем
же летом начала складываться новая поэма о родном ему казачестве, "замешанная на
крови соленой", как писали о ней впоследствии, поэма "Соляной
бунт".
* * *
"Произведение на национальную тему" — так аттестовал Васильев
свою поэму на "обсуждении" в редакции "Нового мира".
"Национальная тема" воплотилась в поэме, как
противостояние нищей казахской степи зажиточному казачьему поселению. Васильев
всерьез взялся за решение казавшейся неподъемной задачи — старый, любимый и
одновременно ненавидимый им казачий уклад, с которым он хотел провести
окончательный расчет, должен был стать символом старого мира, обреченного на
справедливое уничтожение. Возмездие за всю прежнюю жизнь, за освоение чужих
земель, за стражу границ российской империи должна были вершить угнетенная национальная
беднота с окраин — казахи, киргизы, степняки кочевники, ставшие на этих окраинах
движущей силой революции.
Так ли, иначе ли рождался первоначальный замысел эпического
полотна, но он не мог не войти в неизбежное противоречие с самим жизненным
материалом, который властно полонил Васильева при первом же подступе к поэме. С
первых строк читателя ошеломляет буйство фактуры и красок лихой и разгульной
казачьей свадьбы.
Желтыми крыльями машет крыльцо,
Желтым крылом
Собирает
народ,
Гроздью серебряных бубенцов
Свадьба
Над
головою
Трясет.
………………………………………………………
Свадебный хмель
Тяжелей венцов,
День-от свадебный
Вдосталь пьян.
Гроздью серебряных бубенцов
Свадьба швыряется
В синь
туман.
…………………………………………………….
Кони! Нестоялые,
Буланые, чалые…
Для забавы жарки
Пегаши да
карьки,
Проплясали целый день —
Хороша масть игрень:
У черта подкована,
Цыганом ворована,
Бочкой не
калечена,
Бабьим пальцем мечена,
Собаками не вынюхать
Трепота да
иноходь!
А у невестоньки
Личико бе-е-ло,
Глазыньки те-емные…
—
Видно, ждет…
— Ты бы, Анастасьюшка, песню спела?
— Голос у невестоньки —
чистый мед…
— Ты бы, Анастасьюшка, лучше смела?
— Сколько лет невесте?
— Шашнадцатый год.
Шестнадцатый год. Девка босая,
Трепаная коса,
Сама белая в
Атбасаре,
Самая спелая, хоть боса.
…Распахиваются двери горницы и появляются гости — местные хозяева, казачьи
атаманы, купцы — один другого краше и значительней.
А гостей понехало полный дом:
Устюжанины,
Меньшиковы,
Ярковы.
Машет свадьба
Узорчатым подолом,
И в ушах у нее
Не серьги — подковы.
Устюжнины, мешанные с каргызом,
Конокрады, хлестанные
пургой,
Большеротые, с бровью сизой,
Волчьи зубы, ноги
дугой.
Меньшиковы, рыжие скопидомы,
Кудерем одним подожгут што
хошь,
Хвастуны,
Учес,
Коровья солома,
Спит за голенищем спрятанный
нож.
А Ярковы — чистый казацкий род:
Лихари, зачинщики,
Пьяные сани,
Восьмерные кольца, первый народ,
И живут,
Станицами атаманя.
…………………………………………..
И Арсений Деров, старый бобер,
Гость заезжий,
Купец с
Урала,
Володетель здешних озер,
Чаркой машет, смеется:
—
Мало!..
………………………………………..
Ему казаки — друзья,
Ему казаки — опора,
Ему с казаком
Не дружить
нельзя:
Казаки —
Зашшитники
От кыргызья,
От степного
Хама
И
вора!
Атмосфера нагнетается с каждой следующей
главой поэмы. Освоение казахской степи, основание казачьих станиц и крепостей,
обозначение новых рубежей Российской империи, противостояние и сожительство,
событование двух стихий — казачьей и степной — все это отступает перед конечным
результатом. Связи не просто рвутся — кажется,
что их и не было вовсе. Сложнейший процесс вбирания в
себя Россией целого мира, изначально чуждого ей и с которым у нее на протяжении
столетий складывались запутанные, закрученные связи — еще с половецких времен, —
для поэта словно не существует. Столкновение двух стихий окрашено лишь в один
цвет — цвет крови. Буйное, хмельное, зверское начало берет свое, и истоки его
Васильев видит еще в первом появлении казачьих дозоров в незнаемых землях,
появлении, напоминающем налет хищных птиц.
Эти стаи привел на Иртыш Ермак,
Здесь они карагач на селе вырубили
И
селились станицами вдоль зеленой волны,
Тынья, крепости называли по-рыбьи и
птичьи, —
Так возникли Лебяжье, Черлак и Гусиная Пристань.
На буграх прииртышских поджарые кони паслись
Этих лыцарей с Яика, этих
малиновых шапок,
Этих сабель свирепых и длинных пищалей,
И в Тоболе
остались широкие крылья знамен,
Обгоревшие крылья, которыми битва
махала.
………………………………………………………..
Край чужой. По ночам зачинается где-то тоска,
Стонут выпи по-бабьи, кричат
по-кошачьи, и долго
Поднимаются к небу тревожные волоки волчьи.
Выдра
всплещется. Выстрелит рядом пищаль,
Раздадутся копыта, — кочевники под боком
были.
Край недобрый. Наклонишься только к ручью,
Только спешишься, чтобы
подпругу поправить,
Тетива загудит, под сосок, в крестовину иль в глотку
В
оперении диком, шатаясь, вгрызется стрела, —
Степняки и дики и раскосы, а
метятся ладно.
У Шаперого Яра на пузах они подползли,
Караульных прирезали, после ловили
арканом,
Да губили стрелой, да с размаху давили конями,
Есаула Седых
растянули крестом и везли
Три корзины ушей золоченому хану в
подарок.
………………………………………………………
Но купцы за широкой и дюжей спиной
Атаманского войска велись и
радели,
И несли на подмогу цареву заступ и милость,
Подвозили припасы,
давали оружью корма
И навстречу гонцам Ермаковым катили
бочаги.
К устью каменных гор и Тоболу купцы подошли,
Подошли, словно к горлу,
тряслись по дорогам товарным,
Там, где сабля встречалась с копьем и
щитами,
Крепко-накрепко встали лабазы, обмен и обман.
А станицы тянулись туда, где Зайсан и Монгол,
От зеленой волны и до черной
тянулись и крепли,
Становились на травах зеленых, на пепле,
На костях, на
смертях, и веселую ладили жизнь
Под ясачным хоругвем ночных грабежей и
разбоя.
……………………………………………………………
Вознесли города над собой — золотые кресты,
А кочевники согнаны были к
горам и озерам,
Чтобы соль вырубать и руду и пасти табуны.
Казаков же
держали заместо дозорных собак
И с цепей спускали, когда бунтовали
аулы.
Поразителен все-таки русский человек во всех
своих проявлениях! Тот же Редьярд Киплинг, исполняя на свой лад гимн "Правь,
Британия, морями!", описывая все сложности и мучения, которым подвергала жизнь
британского рейнджера, покорившего Индию и строящего на ее земле ц и в и л и з о
в а н н у ю жизнь, описаниями всех тягот этой жизни подчеркивал м и с с и ю
белого человека, которую тот должен исполнить вопреки всему… Васильев прекрасно
знал, знал не из вторых рук, что казаки не колонизировали, а осваивали Дикую
Степь, на земле которой когда-то была древняя цивилизация, но о ней и следа не
сохранилось в памяти многих поколений кочевников… Но такова органичная
привязанность к "братьям нашим меньшим", что заставляет, выделяя талантливым и
тенденциозным пером именно
кровавые страницы непростых взаимоотношений Империи и Степи, подчеркивать лишь
хищнические устремления своих сородичей и единоверцев, предков тех казаков, что
физически истреблялись десятилетием ранее по всей России — на Дону, на Кубани, в
Прииртышьи, в Семиречье… На рубеже 20—30-х и в первой половине 30-х годов слово
"казак" автоматически
приравнивалось к понятию "враг народа". Так что личные устремления здесь помимо
всего прочего идеально совпадали изначально с политической и общественной
конъюнктурой. Другое дело, что результат в конечном итоге оказался совсем не
тем, на который рассчитывала
литературная и политическая "общественность".
Справедливости ради надо сказать, что Васильев был отнюдь не
одинок в стремлении художественно воплотить гнет казачьей силы над национальной
окраиной. В 1931 году отдельным изданием вышла повесть его близкого друга Ивана
Шухова "Горькая линия" о сибирском казачестве.
"Степь!
Родимые, не знавшие ни конца, ни края просторы. Одинокие
ветряки близ пыльных дорог. Неясный, грустно синеющий вдали росчерк березовых
перелесков. Горький запах обмытой предрассветным дождем земли. Азиатский ветер,
пропитанный дымом кизячьих костров. Трубный клич лебедей на рассвете и печальный
крик затерявшегося в вечерней мгле чибиса. О, как далеко слышна там в
предзакатный час заблудившаяся в ковыльных просторах проголосная девичья
песня!..
Джигитует в родимых просторах ветер, пропитанный солью степных
озер и дыханием далекой пустыни. И плывут, плывут безучастные к жизни и смерти,
кочуют из края в край над этой земле легкие, как паруса, облака".
И далее, после этих роскошных строк, на
которых печаталось в том числе и клеймо "Тихого Дона", первыми книгами которого
зачитывалась вся страна, Шухов переходит к самим казакам, рисующимся ему
неуправляемой, самовластной, красивой и жестокой силой, той, что вовсю
разгуляется в васильевском
"Соляном бунте".
"Вдосталь показаковала, наатаманила в этом краю пришлая из
Прикаспийских пустынь, с Дона, Волги и Яика казачья вольница. И по полузабытым,
лихим и тревожным песням ее можно судить о том, как, бывало, отгораживались на
Горькой линии частоколом, водой и рвами линейные казаки от немирных своих
соседей; как закладывали они лет двести тому назад в этих местах и поныне
существующие земляные крепости, маятники и редуты.
Хаживали эти хмельные от вольности ребята на легкий рискованный
промысел в глубинную степь… Не гнушались лихие станичники ни индийским серебром,
ни китайской парчой, ни персидскими коврами, ни полоненными дикарками со
смуглыми лицами…"
"Тихий Дон", "Горькая линия"… Невозможно не
вспомнить эти произведения, перечитывая "Соляной бунт". Но чем внимательнее
перечитываешь эту вещь, тем больше замечаешь отчетливую ноту древнейшего
памятника русской литературы, дошедшего до нас из XII века, слышишь дыхание ветра древней
Великой Степи, откуда шли орды кочевников на Русь и куда на славу или погибель
вторгались отряды русских витязей, подобно дружине Игоря Святославича
Новгород-Северского, о котором неведомый автор сложил великое "Слово о полку
Игореве".
В самом деле, трудно не вспомнить тревожные пугающие знамения
самой природы, сопровождающие поход князя к Дону, перечитывая начало
васильевской главы "Сговор", где мир и покой казачьей станицы кажется шатким и
непостоянным, ибо сама природа пророчит недоброе.
Пал наутро первый
Крупный желтый лист,
И повеяло
Во дворы холодком.
Обронила осень
Синицы свист,—
Али загрустила
Она о ком?
А о ком ей грустить?
Птицы не улетели,
Весело дымятся
Лиственные костры,
Кружат
Ярмарочные карусели,
Режут воду шипом
Пенные осетры.
Али есть
Тоска о снегах, о зиме,
О разбойной той, когда между пнями
Пробегут березы по мерзлой земле,
Спотыкаясь, падая,
Стуча корнями?
Над крышей крашеной
Из трубы валит,
Падает подбитым коршуном
Дым.
Двор до половины
Навесом крыт,
Двор окружен бурьяном седым.
В "Слове" природа пророчит неминуемое. В
"Соляном бунте" лишь первое дуновение холодного ветра вызывает тревогу, которая
все усиливается с каждой последующей строфой. Чем роскошнее, рельефнее пишется
картина собрания казацкой знати в богатейшем доме купца Арсения Дерова, тем
страшнее становится читателю не только п р и в и д е этой силы, но и з а эту силу, которая — неумолимо
предчувствие! — рухнет, словно подкошенная, ибо даже дым из трубы падает
"подбитым коршуном", а двор, "окруженный бурьяном седым", самим своим видом
пророчит будущую разруху.
Дом стоит на медвежьих ножках,
Трубы глухи. Из труб глухих
Кубарем с дымом летят грехи,
Пляшут стерляди над окошком,
И на ставнях орут петухи.
Кажется, эта избыточность жизни сама рвется наружу из стен
казачьего дома, расшатывая кажущиеся вечными стены. И хозяин, что "бьет ладонью
о крытый стол, бьет каблуками в крашеный пол, рвет с размаху расшитый ворот к
чертовой матери!.."— сам мнится воплощением слепой разрушительной силы, от
которой нет спасения не то что дикой степи, но и своему родному очагу.
…Готовится новый поход казачьей вольницы. Но если в "Песни о
гибели казачьего войска" все течение событий определялось ритмом казачьей песни,
то здесь, в "Соляном бунте"— господствует фактура, портрет, характер, действие —
а голос героя читатель слышит уже после знакомства, после лицезрения внешнего
вида одного из казачьих атаманов или его присных. И в этом лицезрении — странная
смесь восхищения и ужаса.
…Разговор "в горнице деровской" перед решающими событиями не
просто серьезный. В общем-то рядовое для казаков событие — очередной поход
против взбунтовавшихся степняков — сулит нечто роковое как им самим, так и
"кыргызам" (казахам). Но вслушаемся в монолог Дерова:
...— Ясаулы!
Степняки,
Сторожа, на что ж
Наши крепости —
Наши славы,—
Курсаки, травяная
Мелкая вошь
Мутит бунт
И режет заставы?
Оспода,
На штандарте
Вашем — цари,
Ваши сабли
Не живы, что ли,
Чтоб могли
В степях дикари
Устюжаниных
Брать в дреколье?
И ярковских
Соколов брать?
Мы дождемся,
Когда кыргызы
Будут, мать
Твою в перемать,
На поповских
Парчовых ризах!
Кто владеет
Степной страной?
Нынче бунт соляной,—
Так что же,
Завтра будет
Бунт кровяной,
Соль в крови —
И железо тоже!
Ведь нешуточное предупреждение прозвучало из уст "купца с
Урала, володельца здешних соленых озер"… Эти люди знали, о чем говорили, не
ведали лишь о том, что грубой силой не замирить уже никакого "соляного бунта" и
без "бунта кровяного" не обойтись. Подтверждение этому слышится в словах
"кыргыза" Хаджибергенева, принявшего сторону казачьих атаманов.
Там, в степях, хозяином — вор,
Пика и однозубый топор.
Он — свидетелем,
Он там был.
Глупые люди с недавних пор
Ловят на аркан
Казаков, как кобыл.
Трусы, рожденные
От трусих,
Берут казаков
Почтеннейших там
За благородные
Кудри их,
Бьют их по благородным глазам,
Режут превосходнейшие
Уши им
И благородные
Уши те
Бросают
Презреннейшим псам своим,
По глупости и простоте.
Едкая ирония, которой облекает Васильев слова Хаджибергенева,
не в силах скрыть устрашающей реальности — слишком знакомой нам и по недавним
десятилетиям, и по последним годам — да по той же Чечне… Эту кровавую реальность
Васильев хорошо знал изнутри, многое видел своими глазами и приложил максимум
возможных усилий, чтобы подчеркнуть обреченность старого мира, предстающего во
всей своей жестокости и красоте, показать его звериную сущность и неизбежность
расплаты за походы "стай Ермака"… Истории здесь ничего делать — в права вступает
течение реальной жизни, вырванный из нее эпизод — без причинно-следственных
связей, хотя определенная историческая подоплека в васильевской поэме
присутствует, нигде себя внешне не обнаруживая.
* * *
…Он много слышал в свое время о восстании Алиби Джангильдина
1916 года. Многих участников восстания приговорили тогда к смертной казни, и
спасла их амнистия Временного правительства. Кое-кто из участников восстания
после Октября возглавил уездные Совдепы, комиссариаты, уездные исполкомы.
В конце 20-х годов многие из них, утверждавших Советскую власть
в степи и занимавших более или менее важные посты в Туркреспублике, уже к этому
времени разделенной, — от Турара Рыскулова до Алиби Джангильдина — были обвинены
в "казахском националистическом уклоне". "Есть ли внутри нашей партии
националистический уклон? — вещал в 1925 году Шая Голощекин, мечтавший устроить
в Казахстане "маленький Октябрь". — Есть. Первый уклон, самый вредный,
великорусский шовинизм. Я заключаю это по докладам некоторых губкомов… Другой
уклон у казахов — тоже националистический, где влияет Алаш-Орда, также очень
сильная…"
Ну, против борьбы с "великорусским шовинизмом" никто ничего не
имел ни в центре, ни в национальных республиках. Но когда дело доходило до
"национальной ограниченности" — здесь начинались свои сложности.
Те же "казахские националисты" с восторгом встретили Октябрь, и
не потому что мечтали "о самоопределении вплоть до отделения" (никаких
административных и государственных границ тогда в помине не было), а потому, что
ощущение "равенства" давало возможность свести счеты с "кровопийцами-казаками",
утвердиться на их землях, почувствовать себя одними из владык бывшей Российской
империи, свободно и беспрепятственно устраивать свою национальную жизнь. Многие,
обуреваемые пантюркистскими идеями, лелеяли мечту о "Великом
Туркестане".
Чей он, этот багряный флаг?
Он горит теперь над тобой,
Азиатский мой
край родной,
Затерявшийся в пестрых горах!
Твой он, Азия! Твой,
казах!
Чей он, огненно-красный флаг?
Тех, кто знает, что бога нет,
Тех, кто
верит в пламень и свет,
У кого он, яркий, в руках…
Это знамя твое,
казах!
Так встретил Октябрь один из "националистов" Магжан Жумабаев. И
он, и Ахмет Байтурсунов, и Жусупбек Аймаутов стали к началу 30-х годов мишенями,
в которых без промаха стреляли представители "новой генерации" казахской
интеллигенции — руководители казахской ассоциации пролетарских писателей — Сакен
Сейфуллин, Сабит Муканов, Х. Жусупбеков. Сакен Сейфуллин в 1931 году слагал
восторженные гимны колхозной жизни на казахской земле, уже усеянной костями
погибших от голода — жертв "малого Октября" Голощекина.
Прекрасен мир!
В груди у всех
И торжество,
И песнь, и смех,
И
солнца луч
Целует всех!..
Куда ни взглянешь —
Чудный вид!
Как ярок
луч цветной в руках!..
Еще недавно этот пролетарский поэт выступил в печати со
стихотворением "Азия", которое небезынтересно перечитать и
теперь.
Коварная Европа — страна насилия, эксплуатации и жестокостей,
Много раз я
направляла тебя на путь правды,
Много умных голов посылала тебе…
Я
посылала моих гуннов, мадьяр, болгар, мавров и
арабов,
Ты видела моих
татар, турок и монголов, —
Прошли дни, годы; ты не отрешилась от зла.
Я
посылала от семитов Моисея, Израиля, Давыда и Исаю,
Я посылала тебе
пророков
И наконец послала Магомета.
Чтобы очистить мир от грязи,
Чтобы смягчить
его бездушно-каменное сердце,
Еще много потомков семитов
Посылала с Карлом
Марксом во главе…
Если не будешь слушать этих умоляющих слов,
Гордясь, не
считая меня равной тебе,
Словами "учи ее силою"
Пошлю монгола своего с
раскосыми глазами.
………………………………………………………………
У монгола есть дела, устрашающие людей,
Сила, потрясающая небо и
землю…
Горе, горе Европе, если она не послушается
Голоса справедливости,
голоса Азии.
За это стихотворение Сейфуллин подвергся
сокрушительному разгрому со стороны своих же одноплеменников и единоверцев, в
первых рядах которых выделялся Габбас Тогжанов, писавший о "молодых идеологах
казахских националистов" — Ауэзове, Искакове, Аймаутове и Кесенгерове,
называвший Магжана Жумабаева "известным националистом, в одно время ярым
контрреволюционером", докладывавший по начальству о существовании "правой
националистической группировки" под характерным названием
"сейфуллинщина".
Сейфуллин в ответ припомнил Тогжанову, что тот в свое время
вместе со Смагулом Садвокасовым называл попутчиками "всех алаш-ординских
писателей: и Жумабаева, и Ауэзова, и Аймаутова", а по поводу стихотворения
"Азия" заявил, что оно было написано в 1922 году во время Генуэзской
конференции, когда "азиатское освободительное движение аплодировало т. Чичерину…
В "Азии" еще был другой мотив… о семитах. Контрреволюционные элементы
(национализм, шовинизм, мещанство) тогда усиленно поговаривали насчет "жидов". Я
хотел и этому отвратительному натравливанию реакции, т. е. антисемитизму, дать
пощечину. Конечно, угрожать империалистической Европе народами Азии не
по-марксистски. И, конечно, восхвалять семитов, что они поведут человечество к
братству, — тоже не по-марксистски…"
Вся эта свара неминуемо должна была разрешиться большой кровью,
что в конце концов и произошло. На протяжении всех 20-х годов в Казахстане
повсеместно шло искоренение всего, что было связано с именами казахских
просветителей. За одно произнесение имени Абая можно было получить пулю или
ссылку. Племянник Абая — знаменитый Шакарим — был расстрелян в 1931 году в
Чингисских горах Семипалатинской области. Его сын Кабыш умер от голода по дороге
от Чингистау до Семипалатинска вместе с сотнями таких же несчастных, пытавшихся
добраться до областного центра в надежде спастись от лютого голода. В это же
время Сейфуллин, Муканов, Жароков вели отчаянную борьбу с "баями" и
"националистами" в казахской литературе. Сефуллин выступал организатором шумных
собраний — в том числе с участием студенчества — в Москве и в Оренбурге,
направленных против Магжана Жумабаева, а через год сам был обвинен в
национализме и пантюркизме.
Мало кто из участников тех литературных баталий дожил до войны.
Поднявшие меч погибали от меча, раздувавшие костер классовой ненависти сами
сгорали в его пламени. Приспешники Голощекина — Исаев, Рыскулов, Курамысов,
Кулымбетов — виновные в гибели тысяч и тысяч своих соотечественников, были
уничтожены в 1937—38 годах вместе со своим врагом — Садвокасовым. Под нож пошли
и бывшие алаш-ординцы вместе с обличавшими их "пролетариями"…
Но к 1934 году ситуация была еще достаточно
напряженной. И появление в печати "Соляного бунта" вызвало повышенное внимание.
Восхищение васильевским талантом сочеталось с тревожным опасением. Никто не
говорил в открытую об очевидном. О том, что эта поэма, повествующая о "политике
русского царизма в отношении угнетенных народностей", была замешана на каплях
свежей крови. В репликах Хаджибергенева трудно было не услышать
интонации выступлений казахских
временщиков — голощекинских подпевал и палачей своего народа. Также слишком
узнаваемы были страшные картины голода, поразившего казахскую степь в период
пресловутого "малого Октября" — в первой части васильевской
поэмы.
Ты разгляди эту стужу, припев
Неприютной
И одинокой метели,
Как на
лысых, на лисьих буграх, присмирев,
Осиротевшие песни
На корточки
сели.
Под волчий зазыв, под птичий свист,
На сырую траву, на прелый
лист.
Брали дудку
И горестно сквозь нее
Пропускали скупое дыханье
свое…
……………………………………………..
Некуда деваться — куда пойдешь?
По бокам пожары — тут, и там.
Позади —
осенний дождь и падеж.
Впереди — снег
С воронами пополам.
……………………………………………..
Некому человека беречь.
Идет по степи человек,
Валится одежда с острых плеч…
Скоро олетит свистящий снег,
Скоро ему
ноги обует снег…
Скоро ли ночлег? Далеко ночлег.
……………………………………………
Вымерла без жалоб,
Молчит трава,
На смертях замешанный, воздух
густ.
Стук далек, туп. Зной лют.
Небо в рваных
Ветреных
облаках.
Перекати-поле молча бегут,
Кубарем летят,
Крутясь на
руках.
Будто бы кто-то огромный, немой,
Мертвые головы катает в
степи…
…Городок из юрт неподалеку от Кустаная — конкретное воплощение
приведения казахского народа "к оседлому земледельческому состоянию"… В этом
городке из юрт составлены улицы, а юрты были пронумерованы, как городские дома.
На улицах висели таблички с именами местных вождей — Курамысова, Ерназарова,
Исаева, Рошаля… Городок носил имя товарища Голощекина.
К 1934 году в этом городке, как и во многих подобных ему, не
осталось в живых ни одного человека. Все вымерли от голода.
* * *
Одно из устойчивых обвинений, которые пришлось выслушивать
Васильеву от критиков поэмы, заключалось в том, что наиболее красочно и рельефно
изображены казаки-угнетатели, а киргизы-угнетенные — написаны бледно и
невыразительно. Упрек был явно не по адресу. На этом контрасте осознанно
выстроена вся поэма, также как многоголосие казачьих песен, щедро используемых в
третьей части, оттеняется однообразием степной мелодии в главах "Соль" и
"Мугол".
Мир казахской степи Васильев знал нисколько не хуже, чем мир
казачьих станиц. Но именно последний он писал лихими, щедрыми, малявинскими
мазками, представляя его в самом красочном и одновременно устрашающем виде,
будучи сам не в силах совладать с хищной красотой и лютостью картин "усмирения
бунта" казаками возле Шапера.
Федька Палый
Видит: орет тряпье —
Старуха у таратаек, —
Слез с
коня
И не спеша пошел на нее,
Весело пальцем к себе маня:
— Байбача,
отур,
Встречай-ка нас
Да не бойся, старая!.. —
Подошел — и
Саблей ее
весело
По скулам — раз!
Выкупались скулы
В черной крови…
Старуха,
пятясь, пошла, дрожа
Развороченной,
Мясистой губой.
А Федька брови
поднял: — Што жа,
Байбача, што жа с тобой?.. —
И вдруг завизжал –-
И ну
ее, ну
Клинком целовать
Во всю длину.
Выкатился глаз
Старушечий,
грозен,
Будто бы вспомнивший
Вдруг о чем,
И долго в
тусклом,
Смертном морозе
Федькино лицо
Танцевало в нем.
Рядом со
знатью,
От злобы косые,
Повисшие на
На саблях косых,
Рубили
Сирые
и босые
Трижды сирых
И трижды босых.
Но нет единства в этом казачьем стане, ослепшем и обезумевшем
от пролитой крови. Находится такой же бедняк, как и Федька Палый, — Гришка Босой
(а имена-то каковы — не в пример Ярковым, Меньшиковым и Устюжаниным!),
удержавший саблю, уже готовую омыться кровавой струей.
— Б-е-ей!.. —
Григорий Босой было
Над киргизской
девкой
Взмахнул клинком, —
Прянула
Вороная кобыла,
Отнесла, одетая в
мыло…
Видит Григорий Босой: босиком
Девка стоит,
Вопить забыла…
Лицо
потемнело,
Глаза слепы,
Жалобный светлозубый оскал.
Остановился
Григорий:
Где бы
Он еще такую видал?
Где он встречал
Этот глаз
поталый?
Вспомнились:
Сенокос,
Косарей частокол…
И рядом с
киргизской девкой встала
Сестра его, подобравши
подол,
Говаривала:
"Стомился, Гришка?" —
Зазывала под
стог
Отдохнуть, присесть.
Эта!
Киргизская Настя!
Ишь ты,
Тоже, гляди, так и братья
есть.
— Бе-ей!..
Корнила Ильич вразброс
Вымахал беркутом над лисой:
— Чо
замешкался, молокосос?
Руби,
Григорий
Босой! —
Шашка зазвенела
вяло,
Зашаталась, как подстреленный на бегу.
Руки опустив,
Девка
стояла…
— Атаман?..
— Руби!
— Не могу… —
Да Корнила Ильич
Потемнел от
крови,
Ощетинился всей своей сединой,
У переносицы
Встретились
брови,
Как две собаки перед грызней.
— Руби, казак!
— Атаман,
нельзя…
— В селезня,
В родителей,
В гроб!
Голытьба!
Киргизам
Попал в друзья!.. —
И раскроил, глазами грозя,
Григорию плетью
лоб.
(Сабля!)
Был атаман —
И не был.
Безнадельный,
Хромой
Смел посметь…
И
упал атаман,
И в ясное небо
Перерезанной глоткой
Стал
смотреть.
Чем потрясает эта сцена и сейчас, когда перечитываешь ее
невесть в какой раз? Своим обнаженным реализмом? Хищной образностью, вплоть до
бровей, что встретились, "как две собаки перед грызней"? Да, всем этим, но не
только. А в первую очередь — кровной заинтересованностью поэта в каждой черточке
этой жуткой картины. Он пишет ее, как бы глядя на все со стороны, но невозможно
не ощутить страсть и ненависть прямого с о у ч а с т н и к а происходящих
событий.
Ведь можно не знать, что казачий атаман,
пьяный от крови Корнила Ильич Ярков, носит имя родного деда поэта, в лице
которого Васильев сводит счеты со всем казачьим родом, со всем самодурством,
жестокостью, духотой родных стен — к чему он с детства испытывал еще
неосознанную неприязнь. Но не почувствовать ее нельзя, как нельзя не понять и
другого: речь идет не о
"палачах" и "жертвах", а о двух с л е п ы х силах, столкнувшихся в кровавом
противостоянии — и иного исхода кроме смертного нет и быть не может. Степь
отпоет погибших, а оставшиеся в живых — одни с веселыми песнями разъедутся по
домам, другие — побредут, опустив головы, распевая свои печальные песни, в
поисках нового пристанища, которое им, может, и не будет суждено
найти.
Каждый, вставший наперекор этой слепой силе, пошедший против с
в о и х, обречен на неминуемое уничтожение, даром, что воспринимается, как
персонаж из ряда вон выходящий, которого можно и уважить, и пожалеть, и
дальнейшую судьбу которого можно обсудить на казачьем совете — но исход ясен уже
в то мгновение, когда "довелось Григорию Босому уходить Корнилу
Ильича".
И такая будет
Большая роса,
И такой на заре
Гусей перелет,
И
набьется ветер
Тебе в волоса,
И такое
Россия
Вдруг запоет,
Что уж
лучше
И не вставать атаману.
И такой полетит
Широкий лист,
И такого
жизнь
Напустит туману
Утром
рождений,
Любви,
Убийств!
В этом естественном течении жизни смерть человека столь же
значима и обыденна одновременно, как смерть домашнего животного под топором
хозяина, который перед последним ударом разговаривает со своим питомцем, словно
с членом семьи. Эта естественность совершенно не принималась в расчет
потрясенными читателями поэмы, которые, обвиняя Васильева в бездуховности,
цитировали начало главы "Казнь", в которой опять же является образ д е д а, — у
б и й ц ы любимого домашнего зверя, д е д а — такого же х о з я и н а к а з н и,
как и казачьи атаманы.
Дед мой был
Мастак по убою,
Ширококостный,
Ладный
мужик.
Вижу,
Пошевеливая
Мокрой губою,
Посредине двора
Клейменый
бык
Ступает,
В песке копытами роясь,
Рогатая, лобастая голова…
А
дед
Поправляет на пузе
Пояс
Да засучивает рукава.
— Ишь ты,
раскрасавец,
Ну-ка, ну-ка…
Тож, коровий хахаль,
Жизнь дорога!
—
Крепко прикручивали
Дедовы руки
К коновязи
Выгнутые
рога.
Ласково ходила
Ладонь по холке:
— Ишь ты, раскрасавец,
Пришла
беда… —
И глаза сужались
В веселые щелки,
И на
грудь
Курчавая
Текла борода.
Но бык,
Уже учуяв,
Что
слепая
Смерть притулилась
У самого лба,
Жилистую
шею
Выгибая,
Начинал крутиться
Вокруг столба.
Он выдувал
Лунку
ноздрями,
Весь —
От жизни к смерти
Вздрогнувший мост.
Жилы на
лопатках
Ходили буграми,
В два кольца свивался
Блистающий хвост.
И
казалось,
Бешеные от испуга,
В разные стороны
Рвутся, пыля,
Насмерть
прикрученные
Друг к другу —
Бык слепой
И слепая земля,
Но тут
нежданно,
Весело,
Люто,
В огне рубахи,
Усатый, сам
Вдруг
вырастал
Бычий Малюта
С бровями,
Летящими под небеса.
— И-эх!
И-эх!
Силушка-силка,
Сердцу
бычьему перекор, —
В нежную ямку
Возле затылка
Тупомордым
обухом
Бьет топор.
И на бок рушится,
Еще
молодой,
Рыжешерстный,
Стойкий, как камень,
Глаза ему хлещет
Синей
водой,
Ветром,
Упругими тростниками.
Шепчет дед:
— Господи,
благослови… —
Сверкает нож
От уха до уха, —
И бык
потягивается
До-олго,.. глухо…
Марая морду
В пенной
крови.
Казнь Григория Босого длится долго, каждая подробность
отпечатывается в сознании читателя не менее отчетливо, чем в сцене "сражения" у
Шапера или убоя быка. Долгое ожидание казни перемежается шутливыми репликами
собравшихся, возгласами пьяных с раннего утра, загнанным шепотом опадавших,
растянутым чтением приговора, последними мыслями казнимого
Гришки.
(Только что
Пыль золотая
В амбаре
Шла клубами
В косых
лучах.
Только что еще
Лежал на боку,
Заперт,
И думал о чем-то
тяжело,
Только что
Выкурил табаку
Последнюю горестную затяжку
—
Сестрицын дар…)
Наконец, все кончено. "Сапоги мелькнули и
хрящи сразу лопнули с легким хрустом…" Все так же естественно, как и истребление
"киргизов", забой скота, — и песня, звучащая тут же неподалеку. Невозможно было
бы жить в этом мире, если бы не песня, омывающая душу своей лихой или нежной
мелодией. "Подымайся, песня, над судьбой. Над убойной треснувшей снедью, — над
тяжелой колокольной медью ты глотаешь воздух голубой…" Ты живая, в доме
многооком радуйся, как я тебе велел… Если ж растеряешь рыбьи перья и солжешь,
теряя перья ты, — мертвые уткнутся мордой звери, запах потеряв, умрут цветы…"
Без нее не живут ни человек, ни природа. И она, действительно, способна не
только "подняться над судьбой", но и "поднять" тех, кто задохнулся бы без нее в
деровском доме или на кровавом гульбище. Поднять их самих над их судьбой…
Посреди кровавых тел, уже после убийства атамана Яркова, тешат душу казаки
лихими частушками и припевками. "У проторенной дорожки закуривай козьи ножки… У
рябого милую отниму я силою… Было у казака три красы сестры, Смиренны растут:
ой, не натешатся!" …Если в "Песни о гибели казачьего войска" песенная стихия
влекла и несла своей воздушной волной с первой до последней строки, то здесь она
слышится в строго оговоренные моменты — как разрядка, как глоток воздуха,
который необходимо ощутить в душной сытости казачьего дома, или после битвы, то
ли казни, когда сам воздух, кажется, пропитан кровью. "Где ты был, табашный
хахаль? Не видала столько дней! Из ружья по уткам ахал иль стерег в лугах
коней?" Это слышится в казачьей станице, когда еще теплое тело Корнилы Ильича не
довезено до родного дома, а казаки добивают уцелевших "киргизов". "Я тебя тогда любила, а теперь прощай, —
положила тебе в сумку махорку и чай. Я теперь люблю другого, прощай, не серчай!"
— девичий голос выводит эту незатейливую песенку на сеновале, когда тело Гришки
Босого еще качается на перекладине… Корнилу Ильича же поджидает целый похоронный
обряд. "Нанятые плакальщицы" Сашка и Стешка провожают его в последний путь
песенным плачем, "чтобы в рай раскрылись пошире двери, чтобы не просыпались
ангелов перья…"
Пропадает тополь
В самом соку,
Выпадают волосы
По волоску,
Ищет
тебя месяц,
Ночь, в саду.
Без тебя мы в темени,
В холоду.
Ничего-то
месяцу
Не найти.
Закатились глазыньки
Дитяти.
И на похоронную песнь казачьей станицы отвечает песня избитой,
но не замиренной Степи. Плач отзывается на плач, мелодия на мелодию. "Замети
метелями свово врага, ты раздень их ворогов донага", — выводит Стешка — и
слышится в ответ: "Ой, кайда барасен? Ой-пурмой?.. — Некерек! — Бельмейм! —
Джаман, джаман!" — заметаемых метелью оставшихся в живых казахов и казашек.
Эта перекличка неизбежно должна разрешиться и разрешается новым
кровавым противостоянием, но оно достойно лишь эпилога. Уже никаких
подробностей, никаких красочных картин. Энергичная констатация свершившегося в
ритме победного марша — свидетельство законного возмездия за пролитую ранее
кровь.
Пой, Джейдосов!
Недаром, недаром
Ты родился
Средь пург и
атак,
Наседал
Средь последних пожаров
На последних
казаков
Джатак.
……………………………….
Он их гнал
По дорогам пробитым,
Смерть за смерть,
По треснувшим
льдам
И стрелял из винтовок
По сытым,
По трусливым
Казацким
задам!
………………………………
Там, в Зайсане,
Средь пьяных, как бредни,
Перетоптанных вьюгой
снегов
Грузно Меньшиков
Сгинул последний
И последний
Хорунжий
Ярков!
……………………………
— Боевое слово,
Прекрасное слово,
Лучшее слово
Узнали мы:
РЕВОЛЮЦИЯ!
Финал поэмы, по существу, смят и скомкан, но Васильева это уже
не волновало. Главное сказано. В конце действие можно оборвать восклицательным
знаком.
Так он поступал и в дальнейшем, завершая большую часть своих
эпических поэм.
* * *
"Соляной бунт" был напечатан в трех номерах
"Нового мира" за 1933 год (№ 5, 9, 11) и тут же получил весьма интересную
прессу. Создавалось впечатление, что критики, писавшие об этой поэме,
протягивали к ней руку, как к куску раскаленного железа — такая нешуточная
опаска звучит в, казалось
бы, выверенных, грозных,
убеждающих строчках их статей.
Василий Катанян, отдавая должное "богатству поэта" (так и
называлась его статья, опубликованная в "Вечерней Москве"), счел необходимым
подчеркнуть: "…То, что казацкие главы художественно сильнее шестой,
революционной, это совершено очевидно и будет в итоге иметь немалое значение в
общей идейной направленности поэмы. Поэтизации старой казацкой жизни должен
противостоять в поэме адекватный по художественной убедительности материал.
Иначе эта поэтизация неизбежно приобретет самостоятельный, самодовлеющий интерес
и реакционную окраску. Об этом говорить пока рано, но в этом Васильев должен
отдавать себе ясный отчет.
Васильев владеет пока ограниченным участком строительного
материала литературной работы. Этот участок невелик и расположен не на
большой дороге интересов и забот строящегося социализма. Васильев, надо
думать, быстро исчерпает круг первоначально накопленного материала и выйдет на
широкую дорогу большого советского поэта".
В "Литературной газете" в конце года выступил
Осип Бескин, незадолго до того прославившийся книжкой "Кулацкая художественная
литература и оппортунистическая критика", написанной, по одному меткому
выражению, "слюною бешеной собаки". В этой книжке он громил, используя самые
красочные политические ярлыки, поэзию Николая Клюева, Сергея Клычкова, Петра
Орешина и критиков, сказавших о них более или менее доброе слово. Васильев в
данном случае оказался для Бескина сущей находкой — этакий "представитель
молодого поколения", избавляющийся от "вредных влияний" своих литературных
"отцов". "Перестраивающийся" с помощью заботливых критиков вроде Бексина,
который так и назвал статью — "На новую дорогу". Подчеркнул при этом всю
трудность выхода "на новую дорогу", используя те же аргументы, что и Катанян.
Было, было о чем беспокоиться им всем, хотя они этого тогда не
осознавали. Зрительный ряд поэмы, драматургические ходы, заимствованные
Васильевым из пушкинской "Полтавы", когда герои начинают действовать и общаться
друг с другом помимо авторской воли, вне антуража и действия, все это
приковывало к себе, завораживало, заставляло переживать за них и, главное, с о ч
у в с т в о в а т ь им, — вопреки всему идейному смыслу. Бытие брало верх над
сознанием — и от этого уже самым правоверным марксистам становилось не по себе.
Так и казалось, что эта жизнь еще не совсем ушла в прошлое и что (чур меня,
чур!) может воскреснуть еще и не в таком виде, что у Васильева.
Эти ли, другие ли предчувствия одолевали "воспитателей" и
"поучателей", но в своей тревоге они были не так уж далеки от истины. Два года
прошло — и картина изменилась если не полностью, то весьма и весьма существенно.
Характерное воспоминание об одном собрании оставил Александр Орлов (Лев
Фельдбин) — один из руководящих работников ОГПУ-НКВД, ставший "невозвращенцем" в
1938 году.
"На праздновании годовщины ОГПУ, которое
состоялось в декабре 1935 года в Большом театре, всех поразило присутствие…
группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца… Взгляды
присутствующих чаще устремлялись в сторону воскрешенных атаманов, чем на сцену.
Бывший начальник ОГПУ, отбывавший когда-то каторгу (Сеир Трилиссер. — С. К.), прошептал, обращаясь к сидевшим рядом
коллегам: "Когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает! Ведь это их
работа!" — и наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара
казацкой шашкой".
Видимо, так же закипала кровь
в этих людях, когда они пятнадцатью годами раньше истребляли поголовно население
казачьих станиц, руководствуясь знаменитой директивой Якова
Свердлова.
* * *
Было бы несправедливо забыть еще об одной
публикации, посвященной "Соляному бунту". 11 мая 1933 года в "Литературной газете" появилась
статья Елены Усиевич под характерным названием "На переломе" (это был первый
вариант статьи, позднее названной "От чужих берегов"). Отрывки из поэмы
только-только начали появляться в печати, но с ее полным текстом критикесса уже
была ознакомлена.
Собственно говоря, и статья Катаняна, и статья Бексина, и
многое из последующей "васильевской литературы" было выдержано в тоне, заданной
Усиевич. Это был тон заботливой воспитательницы, строгой наставницы и не
терпящей возражений учительницы.
"Мы говорим о реакционной направленности, хотя
бы П. Васильев и не скрывал, какому классу принадлежит отражающаяся в его стихах
идеология. До сих пор он, как некогда было принято выражаться, "пел как птица"
(так выразился Карл Радек в статье "Бездомные люди" — речь шла о Сергее
Есенине. — С.
К.), вкладывая все, что было им всосано с молоком
матери, что оставили в нем впечатления детства и ранней юности. Но именно в
этом-то, заложенном в нем с детства содержании и были налицо все элементы
кулацкого мировоззрения реакционного семиреченского казачества…
…Поклонение, которым окружала его вся реакционная, кулацкая
часть поэзии, окрыленная надеждой, что молодой и свежий талант Васильева
поднимет выпадающее из мертвеющих рук представителей их класса поэтическое знамя
и всеми способами толкавшая его на путь реакции…
Лишь посыпавшиеся на Васильева за последнее время справедливые
удары со стороны литературной советской общественности и одновременно
проведенная с ним большая разъяснительная работа заставили его задержаться на
наклонной плоскости, по которой он мог покатиться, заставили его несколько более
серьезно отнестись к своему творчеству, критически взглянуть на возрастающую его
и столь любимую им среду, попытаться определить его социальную роль…
Конечно, проявившиеся в "Соляном бунте" сдвиги
нельзя слишком переоценивать. Моменты любования казаками, их бытом, силой,
удалью, вольностью еще сильны… Показ зависимости кулаков от торгового капитала,
их холуйской роли по отношению к царизму, зверского отношения к киргизам при
своей объективной правдивости лишен чувства гнева, ненависти к ним, носит
бесстрастно эпический характер… Конечно, даже при наличии этих констатированных нами сдвигов было бы трудно
говорить серьезно о дальнейшей перестройке и развитии творчества поэта, до такой
степени пронизанного и пропитанного элементами мировоззрения враждебного нам
класса, если бы кроме того, что дано в "Соляном бунте", Васильевич не сделал и
некоторых других шагов. Первым из них было совершенно необходимое условие
перестройки, а не как сама перестройка, — политическое размежевание
с группой Клычкова и Клюева, которое произведено Васильев в одном из его
последних публичных выступлений…
То, что Васильев под резкими ударами критики понял, что для
собственного его творчества, для его судьбы как поэта решающим моментом является
вопрос о том, сможет ли он пойти в ногу с эпохой, — дает основания думать, что
он пойдет дальше по намеченному пути…"
Если оставить в стороне все примитивные
формулировки и идеологические клише и обратить внимание на тональность этого
сочинения, то невозможно не
заметить, помимо всего прочего, еще одной детали: горделивого уведомления
общественности о том, что сие молодое дарование находится ныне в з а б о т л и в
ы х р у к а х, и воспитывать и отвечать за результаты этого воспитания, за
результаты перестройки будет теперь классная дама в лице Елены Феликсовны
Усиевич.
Мы еще познакомимся подробнее с этой дамой, а
пока приведем отрывки еще из одной публикации с соседней полосы того же номера
той же газеты. Остроумный и желчный пародист Александр Архангельский опубликовал
"пародийный отчет о поэтическом совещании, организованном "Лит. Газетой" и Москгоркомом писателей (говорили
прозой)" под заголовком "Когда потребует поэта "Литературная газета". Пародия,
насколько можно судить, довольно близка к оригиналу, во всяком случае
непосредственные реплики участников, пусть даже и спародированные и шаржированные, можно узнать только из этой
публикации. И вот как, если верить Архангельскому, проходило на этом собрании
обсуждение Павла Васильева.
"Сельвинский
…Тут мы видим, что в "Новом мире"
Печатаются Мандельштам и Клычков,
Но
с другой стороны, нет там Асеева,
Мы не видим Багрицкого,
Меня там
принципиально не печатают.
И если учесть, что, с одной стороны,
Остракизму
подвержены левые поэты,
А с другой стороны, в "Новый мир"
Проникают
Мандельштам и Клычков, —
Это наводит на грустные размышления.
Далее
поговорим относительно Васильева.
Фимиам и ладанный дым,
Воскуряемый
вокруг Васильева,
Обязывает ко многому, в особенности,
Если сопоставить с
тем ощущением,
Которое испытывает наш литмолодняк,
Буквально горбом
добывающий
Почетное звание пролетписателя.
Васильев (с нескрываемой
иронией)
Как, например, Смеляков!
Сельвинский (Васильеву, строго).
Молодой человек! Вы не привыкли к тому,
Чтобы с вами разговаривали в
лоб.
Я считаю, что своим выступлением
Подчеркиваю стоящие перед вами
задачи.
Вы должны здорово над этим подумать.
Имейте в виду, что для
фимиамщиков
Литература — рубашка. Сегодня — на нем,
Завтра скинул — надел
другую.
А для нас с вами литература — кожа.
Наша поэзия выражается не в
образах
"Крестьянской" поэзии березок, закатов,
Всего старого нутра
пейзажного образа,
Идущего якобы в кондовый быт,
Что считалось
специфическим признаком
Крестьянской поэзии, а также дворянской,
Между тем
как драматическая линия в поэзии
Считалась настоящей поэзии
несвойственной.
Васильев боится влияния города.
Поскольку Васильев не
трудится
Над тем, чтобы взять революционный материал,
А исходит из
материала нейтрального типа,
Он имеет возможность брать свежие образы
И с
этой точки зрения вызывает известное внимание.
От того, кто прошел жизненный
стаж,
Прожил 15 лет в революции,
Мы вправе, товарищи, требовать
ответа:
Из какой классовой базы он исходит.
Васильев (взволнованно)
Чо ли не
ладно,
Станишники!
Братцы!
Атаман-председатель,
Ответь.
Пошто
Сельвинский
Полез драться.
Напер на меня
Чисто медведь.
Чо он
делает, казаки, чо жа!
Чо это приплетат
Фимиам!
У Сельвинского кожа
—
У нас тожа.
Мы сами понимам.
Били меня в лоб,
В затылок
били,
Чисто вспух котелок
От щелчков.
Заживат.
Меня ни
погубили
Ни Есенин,
Ни Клюев,
Ни Клычков.
Штоба мне
В кулаках не
оказаться
Шибко подумаш –-
Прощай, родня!
Штоба не погибнуть
В
войске казацком —
Надоть слязать
С клычковского коня!
Трезвые голоса
Правильно! Пора! Пора!
Васильев
А что касается того, как относятся ко мне некоторые критики, то
я это фимиамом не считаю. Я так плохо к марксистским критикам не отношусь и не
считаю, что поэзия для них рубаха, которую они завтра скинут, и именно поэтому я
к нашей критике прислушиваюсь и уважаю ее.
……………………………………………………………………………
Усиевич
Вот — Васильев. Мы знаем, что представляло его творчество, и
достаточно боевым образом были настроены против него.
Что же здесь говорил Сельвинский Васильеву? Он говорил: мне все
равно, будешь ты перестраиваться или не будешь, будешь ли писать колхозные стихи
или противоколхозные стихи — все равно важно, если ты будешь брать образ из
деревни, то это само по себе реакционно… Урбанизм — это буржуазное течение,
нисколько нас не устраивающее, так же, как есенинщина. Есенинщина на тоже не
устраивает. И такая постановка вопроса может сбить того же Васильева и других с
ним, которые хотят двигаться к нам".
Да, именно так проходили практически в с е обсуждения поэзии
Васильева в писательском сообществе. Угрозы, шантаж, фальшивая ласка, кнут и
пряник, стремление найти свою выгоду — со всем этим он познакомился в обществе
"инженеров человеческих душ" в самом начале своего литературного пути.
…Еще в 1930 году близкий его знакомый, поэт Александр Гатов
посвятил Павлу стихи:
Тебе удел высокий дан,
А ты грустишь, не видя света,
И запыленный
таракан
Живет в чернильнице поэта.
А ну-ка выдвори его,
И вот тебе перо, чернила.
Хочу, чтоб наших душ
родство
На радость людям послужило.
Все тот же и всегда иной,
Пусть очаровывает снова
Твой голос бархатный
степной,
Звуча то нежно, то громово.
Свой дух буслаевский смирив,
Не отвечая на злоречье,
Явись — умен,
кудряв, красив —
На поэтическое вече.
"Буслаевский дух" Васильев смирять не желал и "не отвечать на
злоречье" не умел. И отвечал, и давал сдачи, и отстаивал себя, и мог при этом
утопить одного своего друга и протянуть руку другому, оскорбить врага и близкого
человека одновременно — не суть. Главное, самому выйти победителем.
Бог весть какое умение скользить по паркетным половицам
требовалось перед первым писательским съездом. Васильев же виделся окружающим
подлинным слоном в посудной лавке, которого необходимо приручить, обтесать,
обкрутить и, естественно, окрутить.
Рубикон был перейден. Двери писательского мира широко
распахнулись.
Павел вошел гордым шагом победителя. И с блеском затравленного
зверя в глазах.
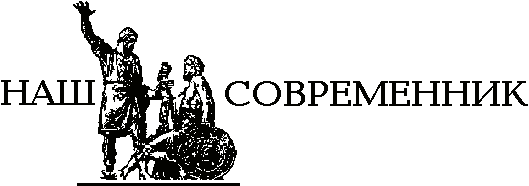 N8, 2000
N8, 2000