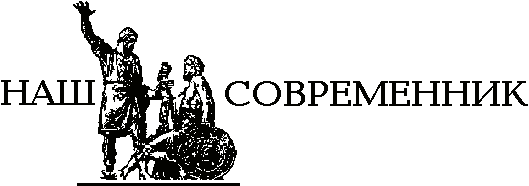 N12, 2006
N12, 2006
http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2006&n=12&id=1
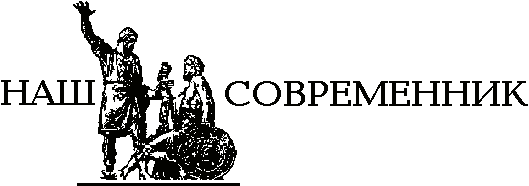 N12, 2006
N12, 2006
|
|
Сергей Куняев СТРАННИК С ЧИСТОЙ ДУШОЙ
|
В краю бараковом… В Карьере Мочище, на улице Аренского, в Новосибирске, где складывались первые песни Николая Шипилова, откуда начались его странствия по бескрайнему тогда ещё Советскому Союзу, странствия беспаспортного, беспрописочного поэта, единственная спутница которого в течение тридцати лет — шестиструнная гитара.
“…Неважно, что было со мной, как говорится теперь, по жизни. Ведь можно и обидеть жизнь излишне эмоциональными рассуждениями о ней, а она — всегда невинна предо мной, я — виновен перед ней.
Скажу лишь, что прожил в Отечестве чистым нелегалом более чем три десятка лет. Сейчас на нелегальное положение переводят весь народ и все народы России”.
Не зная
Ни рожденья, ни смерти — пошёл.
По звёздам выбирал направленье в пути.
Высоко
Звёздный ветер свежил — хорошо.
Помогали прохладой идти
Деревья.
Деревья!
Был смешон я и крова лишён,
Но несли меня в теплой горсти
Деревья…
Странник с чистой душой, не винящий ни мир, ни людей в своей судьбе, он фиксировал мимолётные приметы, образы, характеры, складывая свою реальность русской жизни, связывая разрываемые её нити своим тонким прихотливым словом… Став “парнем знаковым” и в русской прозе, и в русской песне, он не переставал думать о в о з в р а щ е н и и. О возвращении домой.
Но всё короче песня, всё надсадней,
Дыханье брать становится трудней.
Всё чаще тянет в сельский палисадник,
Где мальвы цвет склонялся бы над ней,
И стала бы она совсем простою,
Легко дыша под старою ветлой,
И пели б ветры в струнах травостоя
По-русски чисто, грустно и светло.
Долог же был путь до палисадника… “Дух бродяжий в крови живёт, гуляет…” — говаривал Николай, словно с каким-то глубоко затаённым сожалением. Не в его обычае было клясть судьбу: что сложилось — то сложилось. Что-то складываешь сам, а что складывается помимо тебя — принимаешь как есть. И мысль движется, и познание своего пути свершается в одном ритме с движением по бесконечным дорогам. “Эти мысли, как кандалы по дороге до Шамбалы, по дороге из кабалы до всеобщей любви…” Было и услаждение этой воплощённой мечтой по высшей мудрости — о Беловодье, о Шамбале… “Чем это удовольствие обернётся — неизвестно…”, — задумчиво произносил поэт. И ведь существует в нашей литературе трагедийная традиция этого поиска — вспомним хотя бы повесть Александра Новосёлова “Беловодье” или поэзию Николая Клюева… И чрез эти ухабы и перевалы надо было пройти, чтобы выдохнуть под конец:
О, как мы слепы, людское стадо! Но всяк ругает
То — ясно солнце, то — сине море, вино ли, хлеб ли.
Кто ж наделяет огнём лампаду? Кто возжигает?
И снова масло краями льётся — но все ослепли…
Поют монахи… Поют монахи… Коль слеп, так слушай.
Запрись, дыханье, утишись, сердце, — Дух Свят здесь дышит.
Святые горы, святые хоры, святые души
Не слышит разум. Не слышит сердце. Ничто не слышит…
“Я очень поздно начал писать прозу, — рассказывал Николай в маленьком антракте своего концерта в Протвино более 15 лет назад, ещё при советской власти, — но пока не нарисую, не уловлю человеческий тип — трудно писать. Так и в песне — мне нужно сначала уловить мелодию. А в найденном образе я чувствую себя свободно и легко”. Свободно и легко он разворачивал жизненное полотно и в своих песнях, в нескольких строфах которых воплощалась целая человеческая судьба со всеми сущностными биографическими вехами. Мало кто в современной литературе мог так пластично, в движущемся образе воплотить “маленького человека”, запомнившегося нам по Гоголю, Достоевскому и Чехову. И “всемирный философ” Пётр Шубников из рассказа “Вера”, и беспаспортный бродяга Васька Ильичёв из рассказа “По дороге”, и “Александр — крепостной Елизаветы” — все они в своей “неидеальности”, человеческой неустроенности, душевной и бытийной нелепости, со своими жизненными проколами вспоминаются, как добрые встречные, как полюбившиеся попутчики, вроде попутчиков бывшего зэка, что “в первый класс купил себе билет”, “видел всё — и Беломор, и крытки” и знает лишь одно, что “нет страшнее этой пытки — глядеть в окно на родину свою”, вроде участкового Ванечкина с пустою кобурой, плачущего над гробиком сына, или Ваньки Жукова — чеховского и нашего, нынешнего — которому так небходимо участие доброго человека, кто может с ласковой усмешкой сказать ему:
Пусть придут из райсобеса
Секретарь и участковый.
Где же им понять, повесам,
Чудакам, городовым?
Пусть я не имею веса,
Пусть я в жизни бестолковый,
Но тебя не дам в обиду
Я ни мёртвым, ни живым.
Весь этот народ, русские люди, его герои стояли с ним бок о бок с усталыми и сияющими лицами возле Дома Советов — в те, слишком памятные октябрьские дни.
Защищали не “бугров”,
А российский отчий кров.
За распятую Россию
Проливали свою кровь.
Мы с Петровым да с Поповым,
Да с парнишкой чернобровым
После осени днестровой
Здесь глотали дым костров.
А о том, что чувствовал Шипилов после расстрела — он рассказал в своём последнем романе “Псаломщик”.
“Чужие люди изорвали в клочья мой житейский букварь, а я выучился читать по нему себе на беду. Теперь мне кажется, что после московского мятежа девяносто третьего года прошли столетия.
Я лишь чудом остался жив на раздавленных баррикадах.
“Господи! — сказал я в ночь перед штурмом. — Если останусь живым, то буду служить Тебе всем, на что Ты дашь мне силы…”
Молиться я не умел, но, видно, кто-то из мёртвых молился за меня…
Я слышал пустословие людей, которых ещё вчера несчастный народ возносил, как знамя. То, что они делали, напоминало мне отточенную борьбу нанайских мальчиков. Они партийно-классово и аппаратно-кассово были всегда близки к властям и жили в другом пространстве с его временем. Над ними не капало.
Мне захотелось бежать из Москвы, как с чужбины, в долгое целительное молчание. Забыть сорные, утратившие смысл слова, перейти на церковно-славянский язык, который пока ещё не знали и не уродовали все эти егеря-загонщики, охотники до чужого…”
И как естественный выдох сплетается слово писателя со словом из Синодика Дедовской пустыни.
“…Один загадочный попутчик рассказывал мне в поезде, что когда обыскивали карманы убитых у Останкинского телецентра, то у некоторых обнаруживались оплаченные квитанции на гроб. Однако на морозном тогда, как и сегодня, рассвете их дровами навалили в грузовики и свезли в крематорий. Всё у нас записано, господа победители. И сдаётся мне, что месть мёртвых будет страшна, что она уже началась.
“Зрю тя гробе и ужасаюся видения твоего, сердечно каплющия слёзы проливаю… Смерть, что может избежать тя? Увы смерть, земля бо наше смешение, и земля покроет нас… О человече… аще доидеши величества сана и всея мудрости и храбрости навыкнеши, сего же друга не минеши, но земля еси и паки в землю поидеши”.
И не след думать, что так легко следовать за нынешним массовым поветрием в литературе — ничтоже сумняшеся вставлять древние слова в свой, сплошь и рядом колченогий текст. Т о т звукосмысл обретает органику и живое дыхание там, где твоё собственное слово живит человека, когда с твоей страницы нисходит живая улыбка, которой улыбаешься в ответ, — что бы ни выходило из-под твоего пера, неторопливое ли повествование, разящая ли фантасмагория… Как в зеркало глядятся друг в друга в твоём слове люди разных эпох, разных пластов археологических — и перекликаются разными словами нашего живого великорусского — и понимают друг друга, иной раз лишнего не произнося… Слово Николая Шипилова обладает этим уникальным свойством.
“Пора бабьего раннего лета, которую уже намеревались выкрасть из самых недр России, взывала о себе к иссыхающим людям. Если иметь живое ещё сердце, то её, эту пору, можно было принять за стареющую красавицу на выданье, которая решилась уйти в невесты Господни, но явилась проститься с русским миром в своей девической, никому не нужной красе…
Так усталая мать беспомощно грозит жестоким детям: “Вот погодите! Умру — попомните…”
Так начинается один из его рассказов последнего времени — “В монастыре”. Осень и раньше была частой гостьей его произведений, но всё основательнее и основательнее предъявляла она свои права в последние годы его земного бытия. Словно дарила напоследок тихую радость и предчувствие покоя.
“Никого не пощадила эта осень…” Не пощадила и своего поэта. “Эти двое в тёмно-красном взялись за руки напрасно. Ветер дунет посильней — и всё пропало… А этот в жёлтом, одинокий, всем бросается под ноги. Ищет счастья после бала, после бала…” Не он первый, не он последний среди русских поэтов предсказал срок своего ухода: “Я был поэтом. Умру поэтом однажды в осень”. Но Шипилов не был бы Шипиловым, если бы и здесь ласково и лукаво не подмигнул расчувствовавшемуся читателю: “И напишу я про всё про это строк двадцать восемь”.
Он умер, возвращаясь из родного Новосибирска в Белоруссию, ставшую ему родной, давшую последний кров в этой жизни. И кто бы ещё, как он, имел право сказать о себе такое: “И упал я, сгорел, словно синяя стружка от огромной болванки с названьем народ…”
http://www.lgz.ru/archives/html_arch/lg492006/Polosy/6_6.htm
 ,
N49, 2006 г.
,
N49, 2006 г.
КОЛОНКА НА ТРОИХ
1. Над чем вы сейчас
работаете?
2. Как складывается журнально-издательская
судьба ваших произведений? Что из них вышло
в свет, что не вышло?
3. Какие работы ваших товарищей и коллег по
перу вас порадовали или огорчили?
|
|
Сергей КУНЯЕВ, критик, литературовед: |
1. В настоящее
время работаю над биографическим романом о
Николае Клюеве для серии «ЖЗЛ», также
составляю книгу избранных статей и
литературных исследований, готовлю к
переизданию книгу «Растерзанные тени».
2. Я пишу неторопливо и в последние годы
новых книг не издавал. Но у тех, что вышли,
судьба сложилась вполне счастливо.
Биография Сергея Есенина вышла уже 5-м
изданием и не залёживается на прилавках. То
же касается книги «Русский беркут», тираж
которой давно разошёлся. Теперь же ожидаю
выхода подготовленного мною к столетию
Сергея Маркова тома его избранных
произведений и книги «Сергей Есенин» в
серии «Русскiй мiръ в лицах».
3. За последние 10 лет наша литературная
жизнь приносила гораздо больше огорчений,
нежели радостей. И всё же есть произведения,
которые радуют по-настоящему. Событиями
последних лет я считаю: в прозе – роман Веры
Галактионовой «5/4 накануне тишины» («Москва»,
№ 11, 12, 2004), в поэзии – неоконченную поэму
Юрия Кузнецова «Рай» («Наш современник», N11, 2004),
в критике и литературоведении –
книгу Натальи Корниенко «Сказано русским
языком… Андрей Платонов и Михаил Шолохов» (ИМЛИ
РАН, 2003), а также книгу «Наследие комет»
Татьяны Кравченко и Александра Михайлова (Москва–Томск,
2006), где впервые представлены полный корпус
писем Николая Клюева к Анатолию Яр-Кравченко,
дотоле неизвестная поэма Клюева «Кремль».
Не могу не назвать в связи с этим и книгу
Виктора Брачёва «Травля русских историков»
(М.: Алгоритм, 2006).
МОСКВА
![]() С. Куняев. Биографический
очерк о Николае Шипилове. / Большая
энциклопедия русского народа. Институт
Русской Цивилизации - RusInst.Ru, 2005
С. Куняев. Биографический
очерк о Николае Шипилове. / Большая
энциклопедия русского народа. Институт
Русской Цивилизации - RusInst.Ru, 2005
![]() Ал.Михайлов.
Беркут в неволе (О
книге Сергея Куняева"Русский беркут")
/ Прил.г-ты
Ал.Михайлов.
Беркут в неволе (О
книге Сергея Куняева"Русский беркут")
/ Прил.г-ты ![]() -
- ![]() N8(72),
20-08-2002
N8(72),
20-08-2002
![]() Сергей
Куняев. Русский беркут (часть
VIII) /
Сергей
Куняев. Русский беркут (часть
VIII) / 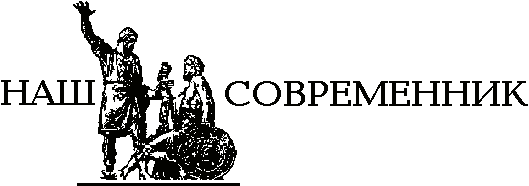 ,
N8, 2000
,
N8, 2000